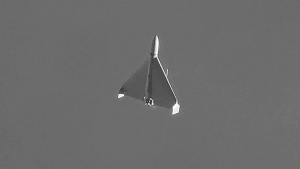Казалось бы, странный поворот старой темы про «мертвую натуру», однако, оторваться невозможно.
Мандельштам называл акмеизм «тоской по мировой культуре». В этом смысле Ракузина можно назвать последним акмеистом, ведь его библиотека в свернутом виде содержит всю историю искусства. Имена художников – метки на обложках, скрывающих целые миры. И если иметь ввиду старую мысль о том, что искусство есть подпись, то одна картина Ракузина заменяет целый культпоход. Подобно тому, как «Черный квадрат» Малевича включает в себя все возможные (и невозможные) изображения, так и альбомы Нафтали гиперссылками вмещают в себя все возможные образы того или иного художника, все наши знания и представления о нем.
Я считаю себя не академистом и не консерватором, хотя мне важно ощущать себя внутри традиции
Живопись Нафтали Ракузина зависает между фигуративным искусством и концептуализмом с памятью о геометрических абстракциях, Моранди и Мондиране, готической вязью Бюффе и смещенностью в сторону кубизма Фалька. Конечно, это искусство об искусстве, но еще это и очень теплая живопись, одухотворенная мастерством и внутренним трепетом. О творческом пути и о том, как сам художник понимает свое искусство его спросил обозреватель газеты ВЗГЛЯД Дмитрий Бавильский
– То, что я делаю, относится к жанру интеллектуального натюрморта. Это искусство об искусстве. Но мои работы – не только рефлексия, не только работа интеллекта, не только интеллектуальное искусство, в первую очередь это живопись, то есть искусство, которое нельзя объяснить словами. Это как музыка, вы либо ее чувствуете, либо вы ее не чувствуете. Я считаю себя не академистом и не консерватором, хотя мне важно ощущать себя внутри традиции. С другой стороны, важно, что мои картины написаны именно сегодня. Такие натюрморты не могли быть написаны еще 40 лет назад до появления поп-арта и концептуализма.
– А почему в качестве объектов изображения вы выбрали именно книги?
– В этом выборе прежде всего сыграл биографический момент. Мой отец был художником-иллюстратором. И я с детства рос в атмосфере художественного оформительства и иллюстрации. Когда мне было лет 14, я начал учиться у Моисея Хазанова, ученика Фалька, позже поступил в полиграфический институт и живопись забросил, решил идти по стопам отца. До своей эмиграции в Израиль, где по инерции продолжал делать книжные иллюстрации, еще в Москве я выполнил работы по «Преступлению и наказанию». Уже в Израиле иллюстрировал «Процесс» Кафки и «Трех мушкетеров». Параллельно я всегда рисовал с натуры, много занимался гравюрой, офортом. Постепенно иллюстрирование перестало меня удовлетворять, именно тогда и возникло важное личное открытие, озарение: я понял, что не нужно иллюстрировать то, что уже написано, я могу выразить себя непосредственно через саму книгу. Книгу как объект. Изображение книг, стоящих на книжных полках становится похожим на абстрактные полотна, приближаясь к геометрическим композициям в духе Мондриана. Либо я могу раскрыть книгу, поставить ее на полке со стороны обложки или же раскрытой – как это делают в книжных магазинах, чтобы рассказать о вселенной, сокрытой у нее внутри. Книга – это мое окно в мир. Это рама, позволяющая лучше этот мир увидеть.
– А как вы относитесь к концептуализму?– А именно в этом и заключается мой концептуализм, хотя я, конечно, не художник-концептуалист и концептуалисты никогда не считали меня своим. Но то, что я смотрю на мир через книгу, вполне концептуалистский ход. И если бы я не был знаком с теорией и практикой концептуалистов, сам я до этого не допер бы. Я не художник, который обдумывает, а потом рисует. Я интуит и убежден, что настоящее искусство интуитивно. Рациональное начало не может быть основным в изобразительном искусстве. Есть более или менее интеллектуальные художники, у каждого по разному, но в целом искусство идет (должно идти) изнутри.
– Когда именно книга стала основным сюжетом вашего творчества?
– Раньше я делал книгу в гравюре и в рисунке, работал на бумаге. В 1983 я переехал в Париж, для того чтобы сменить в своем искусстве и в своей жизни все, в том числе и главный сюжет. После четырнадцатилетнего перерыва я вернулся к живописи маслом на холсте, перестав работать цветными карандашами. Я решил освободиться от книжной темы и стать классическим живописцем-фигуративистом, попробовав себя к традиционных жанрах – портрете, натюрморте, пейзаже.
Постепенно я понял, что бороться с этим бесполезно: как ни старался, я не мог избавиться от появления книг внутри своих работ. Они появлялись в моих картинах с заднего входа – в натюрмортах и интерьерах. Мне по-прежнему было интересно их писать! К концу 80-х я окончательно понял, что именно книга есть мой основной сюжет и моя стихия. С тех пор я делаю книги.
– Что означает «делать книги»?
– С начала 90-х я разработал систему рисования с натуры: сначала цветными карандашами и уже после этого, глядя на рисунок, писал картины большого формата. То есть, процесс расслаивался, и я писал уже не с натуры, но опосредованно.
На нынешней выставке представлены в основном работы 90-х годов и начала века, что обусловлено желанием галериста представить меня начиная с более ранних работ. Тем более что в этот цикл входят две работы на «русскую тему».
– А что в этих композициях оказывается важным? Выбор книг? Их расположение? Вы специально составляете композиции из книг, как в икебане?
– Если я пишу книжные полки корешками к зрителю, то я стараюсь ничего не менять в своем «внутреннем пейзаже». Композиция выстроена, но не поставлена. Ведь если художник пишет пейзаж, то он не может поменять в природе ничего местами, он обязан находить гармонию в уже существующем порядке.
Также у меня есть картины с отдельно раскрытой книгой, либо книги, стоящие лицом к зрителю. Таково мое волевое решение – показать лицом то, что мне интересно.
– Кого вы числите в своих учителях и предшественниках?
– Так как я учился в России, то в молодости определяющим влиянием на меня было влияние Владимира Фаворского и Роберта Фалька. Я также очень люблю Петрова-Водкина и русских пейзажистов ХIХ века – Васильева, Куинджи, Саврасова.
Из современных художников я очень люблю М. Рогинского, с которым дружил по приезде в Париж, где также я много общался и с Эриком Булатовым. В наших с ним творческих процессах (живописи предшествует рисунок) есть много общего, хотя я пришел к такой методе раньше знакомства с Булатовым.
Если говорить о влиянии искусства в целом, то для меня важна эстетика иконы. Себя я приписываю к европейской французской традиции: Шарден, Сезанн, Брак и особенно Моранди – это моя семья.
– Каким вам видится будущее станковой живописи?
– Для меня крайне важно, что я делаю живопись руками, что это рукотворная вещь. Сохранится ли жанр картины? я не знаю, тем более что это и не принципиально. Ведь станковая живопись – жанр относительно молодой – появилась с появлением буржуазии. Живопись стали делать на холсте, чтобы ее было удобно транспортировать, а до этого вполне себе существовали фрески и религиозная живопись на дереве. Существуют исторические процессы развития форм, куда важнее желание людей изображать натуру руками.
– Какой вам видится российская арт-сцена на фоне французской?
– Разница между Москвой и Парижем заключается в том, что в Москве значительно меньше политкорректности. Здесь есть все, от видео до перформансов, однако никто на этом основании не постановляет, что живопись должна исчезнуть. Французский художественный истеблишмент, поддерживаемый государством, вкладывает массу денег исключительно в актуальное искусство, куда живопись не включают. В сознании этих деятелей искусство делится на искусство до Дюшана и после. В известной степени это напоминает советскую ситуацию тотального главенства одного стиля, соцреализма. Хотя французский истеблишмент более тонкий и культурный, но результат один и тот же – тоталитарное давление одного направления. Так как арт-рынок во Франции слаб, то на долю традиционной живописи остается совсем мало внимания и денег. Крупных коллекционеров «перетягивают» в адепты актуального искусства.
Я и сам считаю себя актуальным художником, хотя те, кто рисует красками по старинке, к актуальному искусству обычно не причисляются. Во Франции популярен лозунг: «Живопись умерла», поэтому я сижу там, как в траншее, постоянно доказывая свое право на существование. В России то, что я делаю, понимают гораздо лучше.
– Почему ваша первая персональная выставка прошла в Москве только сейчас?
– Последний раз я выставлялся в Москве в 1996 на «Арт-Манеже», когда меня представляла галерея «Московская палитра» и были выставлены лишь рисунки. Поэтому нынешняя выставка может считаться моей первой представительной экспозицией в России. Она оказалась возможной благодаря энтузиазму Сергея Попова, который пришел ко мне в мастерскую и предложил привезти (это же очень важно – привезти!) картины из Парижа в Москву. Чему я очень рад.
 Сергей Лебедев
Почему у США нет никакого плана по Ирану
Сергей Лебедев
Почему у США нет никакого плана по Ирану