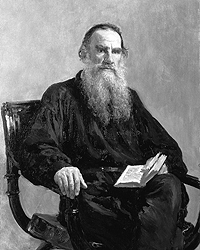Я сознательно пишу о Толстом пораньше – потому что основной вал мероприятий к круглой дате придется на 20-е числа ноября (по новому стилю): там будут и фильмы, и телепрограммы, и пряничные ростовы с карениными, и президент-идеалист в Ясной Поляне, и премьер-рационалист с деньгами на нужды толстоведов – все будет. Я знаю, что большинство взрослых нормальных людей боятся Толстого – боятся количества написанного им, боятся объема: сказывается тяжелое наследие школы, где могут научить читать, но не могут научить любить. Собственно, в этой статье я хочу объяснить, почему Толстого не нужно бояться; что есть Толстой для толстоведов, для школьных учителей и для эксплуататоров духовности, для церковников и для государственников, но есть и Толстой для людей. Именно этот, человеческий Толстой – единственно наш, и понять и полюбить его не так уж и сложно.
Вот уже лет десять я люблю Толстого прочной любовью и убежден, что лучше Толстого нет писателя. Какой-нибудь психотерапевт из начитанных сказал бы, что я, будучи невротиком, подсознательно ищу в основательном языке психологическую опору, а Толстой ее дает, как мне кажется. И то, что я называю «успокаивает» по отношению к языку Толстого, говорит лишь о том, что я нахожусь в состоянии стресса и что мне вместо Толстого стоило бы почитать что-то вроде «Как перестать беспокоиться и начать жить». А социолог добавил бы, что тот, кто в юности пережил распад страны и смену социального строя, вокзалы с китайской едой и сумки с китайской одеждой, ищет в Толстом замену отца-государства – стабильного, прочного, предсказуемого.
Все это так, но Толстой выше любого анализа. «Анну Каренину», например, я читал в первый раз в тех самых электричках 1990-х, заедая чтение домашней котлетой (на страницах книги до сих пор остался едва заметный след), и не испытывал никаких особенных чувств: жизнь реальная пугала, это да, но жизнь книжная вовсе не казалась удачной альтернативой. Толстого вообще понимаешь «потом» – после того как слегка напрыгаешься и набегаешься по жизни.
Русский ум не настроен воспринимать мир как схему – ему нужно все смешать, наговорить кучу слов, ничего не понять – и только тогда понять: задним умом, случайно, вопреки – но окончательно и все
Чтобы описать удовольствие от Толстого, на ум приходят сравнения, связанные с едой, – а такое удовольствие понятно только взрослому: чувство сытости, ощущение круглой радости, физического счастья – и как после обильного вкушения кажется, что уже никогда не проголодаешься, так и тут возникает чувство, что, кроме Толстого, никакой писатель уже не нужен. Еще манера Толстого напоминает бубнеж близкого родственника: в юности это раздражает – все эти дедушки-бабушки, тети-дяди, а потом, когда столкнешься с одиночеством, а родственников многих уже и нет, и хотел бы, страстно желал, чтобы кто-то вот так побубнил рядом, не требуя даже внимания, а нет никого, и понимаешь, что уж не будет.
Словом, полюбить Толстого можно, только повзрослев: эта манера – с километровыми предложениями, бесконечными «чтобы», «что» и «оттого, что» – родилась из пристрастия Толстого с юности вести дневник, ежедневно анализировать и объяснять себя. Но позднее манера Толстого напоминает уже не разговор с собой, а с каким-то очень близким человеком – с женой, например, которую воспринимаешь как второе я: женщины часто называют это состояние «я для тебя как мебель», но на самом деле это проявление высшей степени мужского доверия, растворение в партнере.
Итак, это напоминает разговор с женой. Жена не очень хорошо себя чувствует, раздражена и к тому же с утра задумалась о том, любит она своего мужа по-прежнему или уже не так, как прежде, – и сидит на диване с таким напряженным лицом, и отпускает едкие замечания по любому поводу. Внутренне готовый к такой ситуации муж – не без тайного желания даже немного позлить жену своей невозмутимостью, поскольку хорошо знает все ее состояния, их причины и последствия, – он же писатель Лев Толстой, бог – начинает намеренно подробно, медленно и скучно пересказывать какой-то заурядный эпизод из жизни. Желая тем самым напомнить о суровой рутине жизни, которую, тем не менее, нужно принять, если не хочешь сойти с ума раньше времени.
– Ну вот, – говорит муж. – Я уже рассказывал тебе о графе N. Будучи человеком собранным и уверенным в себе, N. ничуть не сомневался, что на ближайшем заседании в Сенате он сумеет представить свое видение земельного вопроса и показать одновременно, что никому этот вопрос так невозможно представить, во всей его полноте, как ему, чтобы все в результате поняли, что именно ему, графу N., и следует поручить это дело и что, если ему его доверят, порукой тому будет всем известная порядочность и щепетильность N., а также его умение поспешать не торопясь...
– Лева, – перебивает его жена, допустим, Соня (представим, хотя это трудно вообразить, что именно так она ему и отвечает). – Ты еще ничего не сказал, а уже полчаса бубнишь. Он на заседание едет в Сенат, так? И что дальше?
– Так вот, – продолжает, ничуть не смущаясь, муж. – Степан Петрович N. намеренно задержал даже день решающего заседания, чтобы земельный вопрос дискутировался в Сенате именно в присутствии его злейшего врага и оппонента князя Приживальцева, который к этому дню, как он знал, уже вернется из поездки по южным губерниям и будет готов вступить в ним в яростную полемику, – Степан Петрович хотел тем самым показать, что вовсе не боится даже résistance opiniâtre и что даже присутствие злейшего врага, о чем знали, конечно же, и все окружающие...
– Лева!!! – срывается опять жена. – Ты не можешь это в двух словах сказать, тут же все ясно!.. Этот Степан Петрович – крутой чел и никого не боится! Зачем ты так подробно! Так что было в Сенате?
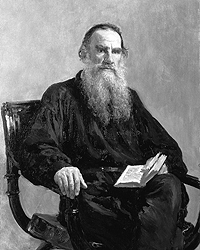 Словом, полюбить Толстого можно, только повзрослев: эта манера – с километровыми предложениями, бесконечными «чтобы», «что» и «оттого, что» – родилась из пристрастия Толстого с юности вести дневник, ежедневно анализировать и объяснять себя (Фото: wikipedia.org) |
– Для себя же Степан Петрович решил, – говорит муж, не меняясь в лице, – что накануне заседания встанет пораньше и побродит по саду – и во время этой прогулки обдумает свои тезисы еще раз, как и возможные доводы оппонентов. Но с утра в день заседания ему нездоровилось, и он решил ограничиться ходьбой по дому. С тем непроницаемым лицом, с каким обычно его привыкли видеть домашние и прислуга, хотя и несколько более отрешенным, без привычной деловитости, как ему самому казалось, он походил у себя наверху, затем спустился в гостиную, побродил там, внеся тем самым расстройство в привычное течение утра, породив оживленную суету слуг и смущение, которое при встрече ему выказывали, впрочем, выказывали несколько намеренно, о чем он тут же догадался. Степан Петрович вдруг почувствовал себя совершенно одиноким и лишним в этом доме...
– Лева, он на заседание хоть когда-нибудь вообще поедет, а? – опять обрывает его жена. – Или он так и будет ходить по дому вместо заседания?
– ...Почувствовав, что эта опустошенность, однако, приятно оттеняет будущий накал полемики по земельному вопросу, Степан Петрович сделал еще два десятка пружинящих и совершенно бессмысленных шагов по гостиной и поднялся к себе в кабинет, где прилег на кушетку. Вдруг он вспомнил свой разговор о княгине Вяземской с ее двоюродным племянником, которого Степану Петровичу представили в прошлый четверг. Незначительность его размышлений о родне, чего он и добивался сознательно, чтобы не думать о заседании в Сенате, о чем он накануне, как он убедился этим утром, успел передумать довольно, сделала внезапно так, что на миг ему показалось бесконечно скучным ехать на заседание в Сенат, спорить там и вообще ехать куда-либо, и подниматься с постели, и что вся эта затея не принесла ничего хорошего, и он зря встал так рано...
– ЛЕВА! – кричит уже жена. – Короче! Ты уже достал! Ведь уже понятно, что на заседании все пойдет не так, как задумал Степан Петрович, а как-то иначе! Что не пройдет его план по земельному вопросу, так хорошо продуманный! Я не такая дура, как ты думаешь! Зачем ты все по сто раз объясняешь!
Так или примерно так работает манера Толстого: он – муж, а мы, его читатели, – жена Соня, которая постоянно торопит и просит побыстрее объяснить, в чем суть. Толстой намеренно никуда не спешит, нагромождает околичности, ходит вокруг да около – именно для того, чтобы читатель сам обо всем догадался раньше, чем ему об этом расскажут. Если бы читателю объяснять напрямую, он ни черта бы не понял, почему не получилось, допустим, у Степана Петровича, – потому что поди объясни, почему в жизни нет никакой логики даже в самых важных вопросах и любая мелочь может сыграть роковую роль. Зато когда тебе говорят об этом так – косвенно, вскользь и как бы вообще не о том, – тогда ты сам все понимаешь, и даже больше того, и тебе кажется, что ты – умный, а Толстой – многословный.
Потом находишь в этой монотонности еще и приятность, и тебе даже кажется, что долдонство и бубнеж составляют какое-то волшебное, необъяснимое условие этого понимания. А потом, уже привыкнув к этой манере, мы обращаемся к Толстому как к параллельной жизни, в простоте и непритязательности которой вдруг открываются глубины и тайны, и мы не понимаем, почему без помощи Толстого этого эффекта достичь не получается. И, наконец, мы хотим читать Толстого уже из-за одной этой иллюзии всепонимания, чтобы утонуть и забыться в этих сложноподчиненных предложениях жизни.
Взять хотя бы эпилог к «Войне и миру»: несмотря на весь его космический замах, там нет никакого особенного открытия. Ну вот, как пишет Толстой, бывают моменты в истории, когда народы вдруг взяли ружья и пошли убивать друг друга, а бывает, что им это надоедает, – и тогда война заканчивается, а вовсе не потому, что полководец такой-то решительно атаковал на правом фланге или от императора такого-то фортуна отвернулась. И это все – на девятнадцати страницах, и эта мысль кружится и так, и эдак, по кругу, бубнит – но в какой-то момент понимаешь что-то, что невозможно описать словами и что вовсе не следует из смысла сказанного. Это и есть Толстой.
Эта манера Толстого и есть тот специфический русский взгляд, национальный способ понимания мира, который так часто приводит в бешенство здравомыслящих, как им кажется, менеджеров. Если пытаться понять этот бубнеж напрямую, то есть отыскать в нем логику и смысл, то вы решите, что говорящий – идиот и словоблуд. Чтобы понять, о чем это, нужно впасть в транс, настроиться на долгий подробный рассказ о чем угодно, с психологическими наблюдениями и отступлениями говорящего по всем вопросам, включая земельный. Но если вдруг вам удастся раствориться в этом плетении словесных кружев, если вдруг вам удастся погрузиться в это полностью и думать о чем-нибудь своем, тогда только вы и поймете, в чем суть, смысл, замысел, и даже про земельный вопрос все поймете. И тогда ты и сам становишься, как Лев Толстой – большой и умный, который прочел и Канта, и Кьеркегора, и Гегеля, но ничего не понял о том, зачем и как жить, а понял только, когда наблюдал за крестьянскими детьми, играющими в лапту.
Русский ум не настроен воспринимать мир как схему – ему нужно заболтать любое дело, перемешать, наговорить или намолчать кучу слов, ничего не понять – и только тогда понять: задним умом, случайно, вопреки, вскользь, в борще, в компоте – но окончательно и все.
Именно поэтому Толстой и есть матрица русской литературы, которую он, уходя, забрал с собой – сто лет назад, по старому стилю, а никто, как водится, ничего не понял.
 Игорь Караулов
Декабристам не хватило компетентности
Игорь Караулов
Декабристам не хватило компетентности