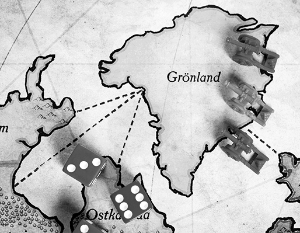Весьма ловко поступил один интернет-портал, который не стал употреблять обычных для прошлой недели и последних 15 лет словосочетаний «великая певица уходит», а просто поместил ее в один ряд с мировыми звездами по количеству проданных пластинок. То, что Пугачева продала столько же (официально) дисков, сколько, например, Мадонна или «Металлика», впечатляет и одновременно привносит элемент рационализма. ПО ЧЕМУ она выдающаяся певица? – ПО ТОМУ, сколько продала пластинок. То есть она выдающаяся по таким-то и таким-то критериям.
Пугачева точно так же, как и шестидесятники, не выдержала испытания свободой
Хотя, конечно, относиться к Пугачевой исключительно рационально или прагматично все же не получится. Так же, как нельзя относиться рационально к таким явлениям, как шестидесятники или, допустим, Горбачев. Самым главным дефицитом в СССР была свобода, и поэтому к тем, кто эту свободу вольно или невольно, сознательно или под влиянием обстоятельств, но по кусочку нам возвращал, мы обязаны, если мы не скоты, относиться, в любом случае, с благодарностью. Невзирая на то, что эти люди делали потом.
За это – за возвращенную свободу – мы должны быть им вовек благодарны: Пугачевой, шестидесятникам или Горбачеву. Это, если хотите, наш моральный долг перед ними: не было бы их – не было и нас, для которых понятие «свобода» – хоть бы даже и декларативно – есть нечто неотъемлемое, первичное, необходимое.
Помню, меня еще лет пять назад удивляло отношение к Пугачевой не ее потенциальной аудитории, а людей, скажем так, из совершенно другого лагеря: интеллигенции, писателей, эстетов. Вроде бы, по всему они не должны были ее любить – но, однако, они все словно соблюдали какой-то тайный договор о ненападении: ни одного ругательного слова в ее адрес.
За что они ей были так благодарны? Постепенно – по расспросам, по реакциям – я понял, что для тех, чья молодость пришлась на 1970-е годы, Пугачева была чуть ли не главным символом раскрепощенности, независимости, свободомыслия.
Это было парадоксальным открытием: для меня, родившегося в середине 1970-х, Пугачева-то была как раз, напротив, символом закрепощения, несвободы – несвободы, в первую очередь, эстетической. Для меня и моих сверстников Пугачева была – «пафос», тот же телевизионный официоз, только слегка припудренный. А уж воцарившаяся в 90-е годы эстрадная эстетика – с ее хрипотцой самоуверенного хамства, правилами хорошего тона а-ля привокзальное кафе, с ее псевдохристианской стилистикой «Рррадные! Любимыя маи! А типерь усе уместе!» – это все было, по моим представлениям, как раз прямым следствием, естественным развитием эстетики Пугачевой, ее порождением.
Мне стоило некоторого труда понять, что такое было для людей – Пугачева 1970-х.
Виктор Ерофеев писал, что герой русской литературы до середины ХХ века не имел физиологии: он не потел, не какал, не знал физической любви. Эта склонность к идеализации человека была и характерной чертой соцреализма: его герой также жил одними идеями и перевыполнением плана, а с девушками если на что и решался, то только целоваться в подъезде, а более – ни-ни. Советская эстрада 60-х в этом смысле была соцреализму верная сестра. Речь даже не о физиологии, а о проявлении, что называется, сильных чувств: страстности, радости обладания любимым, эгоизме любви. Ничего такого не могло быть в советской эстраде: максимум, на что были способны девушки в песнях, это молча страдать или стоять в сторонке, платочки в руках теребя. Пугачева пришла на эстраду именно с сильным чувством: она голосом умела ЭТО передать, и песни ее отдавались дрожью в паху слушателя, а не только в душе. Тут уже никто не сомневался, что это поется – именно о земной, о настоящей, о человеческой любви во всех смыслах сразу.
 Относиться к Пугачевой исключительно рационально или прагматично все же не получится (фото: ИТАР-ТАСС) |
Что еще совершила Пугачева революционного? На мой взгляд, она разрушила жанровые перегородки в советской эстраде. Эстрада 60-х была в своем роде великий культурный концептуализм, где каждый кирпичик был частью общего плана. Здесь каждый исполнитель знал свой шесток. Зыкина, допустим, существовала только в рамках темы «Люблю тебя, Россия», Пьеха – в рамках «советскому человеку хорошо», Магомаев – в пределах «сыновней любви к Родине». И из всего этого складывалось общее тело оттепельной эстрады 60-х; с некоторой долей свободы, но все равно в рамках концепта – когда песня, идея, тема все же преобладала над исполнителем. Эта «чистота» жанра до сих пор умиляет в советской эстраде 60-х – и разрушила этот порядок именно Пугачева.
У Пугачевой ее «индивидуальность», манера были важнее, выпуклее любого жанра: ее самость, личность всегда были важнее песни. Исполнитель впервые стал в советской эстраде важнее, чем песня – в силу характера самой А. Б., наверное: она стала вносить эту индивидуальность во все, в любую песню, в каждый жест, размывая границы между жанрами.
Еще у Пугачевой не было в репертуаре «песен о Родине», что было внове. На самом деле, это, конечно, было отзвуком уже шагавшей по стране идеи «великого болта» – забивать на официоз, на лозунги, на идеологию – и торжества частной, личной, индивидуальной жизни. Пугачева была лишь одним из проявлений этого общественного тренда 70-х, который совпал с концом оттепели и последнего искреннего всплеска энтузиазма. Когда постепенно становилось не зазорным открыто бороться за тряпки, за бабки или за хорошую мебель, скажем, в квартире. В СССР в силу извращенности любых понятий это тоже, конечно, считалось одним из проявлений свободы, но одновременно стало и новой кабалой, добровольным ярмом. Это было началом победного шествия мещанства, накопительства как цели жизни, поклонения «лейблу», «товару из-за рубежа» – эти мечты, как мы видели, и были воплощены в жизнь подростками 1970-х в 1990-х и 2000-х годах.
Но тогда это было, повторим, безусловно, проявлением свободы – как и борьба за сильные чувства, за право любить кого и как хочешь. Пугачеву любили за смелость: за то, что она могла послать чиновника, за то, что у нее был дома белый рояль и домработница, за то, что она не боялась скандалов, за то, что хотела жить вот так – не скрываясь и в полную силу. Любить, кого хотела, и жить, с кем хотела. От этого поведения – на всю страну – захватывало дух.
И как не признать за Пугачевой этого примера свободы?.. Как не признать за ней тех миллионов порций свободы и веры, которые она раздавала людям? Невозможно не признать – и за это я тоже готов снять перед ней шляпу, хотя вряд ли она в этом нуждается.
Однако Пугачева – точно так же, как и многие, как, допустим, и шестидесятники, – не выдержала испытания свободой, когда та настала. И очень быстро проповедуемая ею свобода превратилась в несвободу для других.
Я имею в виду не тех конкретных исполнителей, которых она якобы куда-то «не пускала», – это все бездоказательно, на уровне слухов. Я и не собираюсь их множить, эти слухи. Потому что речь идет о несвободе, в первую очередь, эстетической: о монополии ЕЕ вкуса, ЕЕ манеры, ЕЕ слова на эстраде 90-х и даже начала 2000-х, которая нашла свое воплощение в десятках пугачевых поплоше. Причем в этом как бы нет даже прямой вины самой Пугачевой – это, так сказать, родовая травма нашего общества, в котором никогда естественным образом не рождается альтернативы, а всегда рождается монополия – одного стиля, одной манеры, одного тона. И это ОДНО клонируется, воспроизводится до тех пор, пока не доводится уже до полного абсурда. Взять хотя бы эти новогодние вечера по телевизору – по всем каналам, с одними и теми же композиторами, певцами, шутниками и, конечно же, во главе с Самой! – из года в год, одно и то же, в результате чего нормальный человек давно уже не включает телевизор.
Вся эстрада 90-х так или иначе повторяла Пугачеву – и естественно, что копии эти были смешны и нелепы, но нельзя отрицать того факта, что Пугачевой это льстило, и она тоже была уверена, что так и должно быть, что это правильно.
Эта эстетика ресторана, кабака – а как же иначе! – она оказалась тотальна и тоталитарна в не меньшей степени, чем славный цензурный комитет. Это был тоталитаризм безвкусия – и он неожиданно мощно стал вмешиваться в жизнь, своими завываниями никого не оставляя в покое. Я знаю, по крайней мере, одну причину этой убогости и однообразия: это нетребовательность эстрадных исполнителей к авторам текстов и музыки. Пугачева ведь когда закончилась как ТА Пугачева? – именно тогда, когда она стала САМА выбирать себе авторов текста и музыки и никто ей уже не мог помешать. Именно тогда ее песни и перестали запоминаться – потому что были написаны подобострастными бездарностями, которые ее окружали, как это обычно и бывает в свитах у королев. И никто не мог ей сказать: А. Б., ведь это – дурной вкус! Ведь это дурные стихи – не пойте их, никаких не пойте, если других нет – лучше вообще молчать! Но нет, она молчать не хотела.
Она, конечно, на фоне тогдашней эстрады выглядела профессором – и знала ей цену, этой тусовке, но ее, безусловно, устраивало это одновкусие: она ведь прекрасно знала, что в этой системе никто никогда не займет ее трон, потому что эта система ею в каком-то смысле порождена. Так она и стала чем-то вроде генерального секретаря Попсы.
Это случилось не с одной Пугачевой – ведь и шестидесятники тоже, придя к власти, тотчас же стали устраивать собственные культы личности – в своих театрах, редакциях, институтах, потворствуя славословиям в свой адрес. «Выпавшие из времени, утратившие связь с действительностью, обласканные властью, нередко превратившиеся в памятники самим себе, часто растерявшие все свои идеалы», они свободой воспользовались, увы, для того, чтобы с маниакальной страстью навязывать свои вкусы, сидеть на своих генеральных стульях до смерти – в результате не давая культуре развиваться, тормозя ее.
Вот и эстрада 90-х, копируя Пугачеву и не зная другого пути, под конец была уже неотличима друг от друга – и, естественно, эпоха «больших певиц» вскоре исчерпала себя в силу полной неубедительности.
…В результате наложения этих разнонаправленных эмоций, стремясь быть честным с самим собой, отдавая герою должное и оставаясь при этом критичным, как я могу отреагировать на уход Пугачевой со сцены? Только одним образом: молчать. Молчать о Пугачевой.
 Сергей Худиев
Чтобы никто не мог отменить Новый год
Сергей Худиев
Чтобы никто не мог отменить Новый год